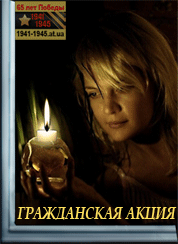Здесь не лирика, а нудеж и горячечные (и наивные) разборки с терминологией, потому что я студентка своего отделения.
читать дальшеЯ полагаю, почти все любители жанра манги читали не одну и не две, в которых на первый идейный план в качестве одной из главных жизненных ценностей выдвигалась бы дружба – или нечто, что и переводчики, и читатели склонны называть этим словом. Не берусь приводить примеры, ибо проще было бы вспомнить такую читанную мной мангу, в которой этого нет, – да и то только в том случае, если такая вообще найдется хоть одна.
Думаю, все легко могут себе представить, о чем идет речь. В тексте ни слово «дружба», и никакой из его аналогов могут вообще не называться, но, тем не менее, сюжет вполне выразительно демонстрирует, что героев связывают очень важные в жизни каждого из них отношения. Причем не потому важные, что де такая у них распрекрасная дружба, такое проникновенное взаимопонимание, – этого и в помине может не быть. Довольно быстро можно углядеть закономерность: определяются эти отношения прежде всего тем, что объединяют людей на уровне жизнедеятельности. Тем и важны. Широко и образно выражаясь, эти отношения - это некий кусок жизни человека, его деятельной жизни, который у него общий вместе еще с одним или несколькими другими людьми. Именно общий - не похожий, там, не соседствующий - а просто один на нескольких. А уж слово «накама», как известно, прямо и исключительно к этому аспекту и обращается.
Насколько я смогла понять японский толковый словарь, «накама» – это:
1) Люди, вместе занятые в какой-либо деятельности. (Я бы даже сказала, тупо что-нибудь делают вместе. Блюют под один забор, например.)
2) Существа, принадлежащие к одному и тому же виду/отряду/семейству – какому-то общему биологическому типу, короче.
3) Что-то про объединенные торгово-промышелнные организации или около того - не стала впиливать, ибо не про нас.
Все. Исходя из этой словарной статьи, не делая даже скидку на мое кривое знание японского, получается, что переводить понятие «накама» характерным для западного человека словом «друг» - ошибочно.
Потому что, как видно, отнюдь не личная привязанность и не взаимное расположение (что обычно подразумевают у нас под словом «друг»), а именно факт совместной деятельности делают людей «накама», и это принципиально. В том, что это необходимое условие, легко можете убедиться, перебрав в памяти все известные вам случаи упоминания этого слова в оригинальном произведении. Я думаю, везде встретится что-либо такое: это может быть общим делом и целью всей жизни героев, как в ОР, а может быть и вовсе не то чтобы продолжительной, но совместной - бездеятельностью, как в Гинтаме, в которой герои только тем и занимаются, что не делают ни хрена вообще.
По всему выходит, короче, что вернее переводить «накама» не как «друг», а как «коллега, товарищ». Замечу, что я не задвигаю тут критерий личного расположения – оно может быть, оно может даже быть причиной такой совместной деятельности, но с точки зрения отношений «накама» оно второстепенно.
Но это, разумеется, не все. Если бы это было все – откуда столько пафоса, откуда тонны бумаги, на которой графически воспета эта загадочная форма межличностных связей?
Я, признаться, до некоторых пор, будучи фанатом в последней стадии, полагала именно изображенное в манге образцом идеальной дружбы, и все сокрушалась, что у нее такие сложные применительно к жизни условия. Потому что, хотя я успела на опыте убедиться, что ничто так не объединяет людей, как совместная деятельность, в моей биографии все как-то так складывалось, что далеко не все друзья приобретались за общим занятием, и уж совсем мало людей, которые, при всей личной приязни и будучи крепко повязаны со мной в одном деле, были бы мне при этом хоть сколько-нибудь дороги как друзья. Сейчас, соответственно, убедилась, что это просто совершенно не та категория, и неправильно ее рассматривать как дружбу.
Но, с другой стороны, не просто же так стала вообще возможна такая ошибка. Действительно, если мангу почитать, то на чистейшую, искреннейшую дружбу это «накама» весьма похоже. Глядя на то, каким важным выступает это понятие, сколько художественных и читательских эмоций привязано к нему, насколько, наконец, оно вескую играет роль для формирования сюжета, - сложно внушить себе, что дело тут просто в том, что персонажи, блин, «коллеги»! И верно, потому что «коллеги» - это скорее другая крайность, и тоже полноценного смысла «накама» передать никак не может, хотя буквальному словарному значению вроде как соответствует. Почему же, стало быть, японские комиксы (и, конечно, не только комиксы) стабильно изображают нам, как на сугубо практической почве людей окрыляют столь возвышенные порывы?
Этот вопрос для меня существенно прояснился – по крайней мере, показался под таким новым углом, что многое в нем показалось понятным, - после вчитывания в книгу Овчинникова, за что ему большое спасибо. Коротко и своими словами говоря (за корректность моего изложения относительно оригинала поручиться не могу, чужой материал я тут всяко освещаю субъективно), он пишет, что японское общество – это общество групп. Каждый человек в этом обществе неизбежно стремится обрести свое место как часть какого-то коллектива, возможно, совсем небольшого, но обособленного ото всех остальных людей своими целями, своими задачами, деятельностью, биографией, кулинарными предпочтениями – чем угодно. Практически каждый человек, соответственно, живет и функционирует как часть нескольких (обычно) таких групп, и жизнь его состоит в очень большой степени из жизни именно этих групп. Возможно, не будет преувеличением сказать, что в рамках такой группы люди представляют собой некою одну, общую личность – противоречивую в деталях, но целостную. Это один момент.
Другой: по классической схеме одним из свойств этих групп является то, что отношения внутри них повторяют семейные. Может быть, момент это спорный, но с его помощью можно четко выявить, почему принадлежность к группе и сама группа так важны. Если предположить, что группа мыслится как та же семья, только большая, то нельзя ли сказать, что везде будет действовать один и тот же механизм: тебе может, например, не нравится твой собственный брат, но покуда вы оба в одной семье, ты не сможешь не печься о его благе, так как оно касается и тебя самого. И ведь не скажешь же (не часто, по крайней мере), что при личной неприязни такая связь получается исключительно практической. Именно практический фактор может быть совсем несущественным. Убил бы, дескать, суку – но ведь брат же!.. Мне всегда очень нравилось, как собственная наша этимология раскрывает это чем-то парадоксальное явление: семь-я; одно я, состоящее из семи людей; семь людей, каждый из которых является мной; семеро меня; я, распределенное на несколько человек. Если по этому образу существует группа, то очевидно, как резко значимость связей в этой группе возрастает. Не важно, как ты относишься к этому человеку лично, но вы с ним повязаны, вы с ним заняты в одном деле, и это дело – часть вашего жизненного пути, пусть даже не самая важная, - вы будете действовать в интересах друг друга. Вам будет важно благополучие друг друга, покуда оно – часть вашего собственного, а вы – части одной группы, составные части одного целого. Вы принадлежите к некоему общему «я», потому каждый из вас – часть «я» друг друга. Вы – накама.
Тут уже отношения выходят на совершенно иной, глубокий уровень. В них реализована фундаментальная потребность человека к причастности, к ощущению себя органической частью этого мира, инстинктивная отчаянная боязнь одиночества - и реализовано это все иначе, чем в принятой у нас "дружюе". Правильно занять свое место в такой группе – значит и обрести свое место в мире, в жизни, в пути. Не знаю, не перегибаю ли я тут палку, но в таком случае и собственно семья – это просто еще одна из таких групп.
Собственно, вот. Для меня это многое объясняет.
Во-первых, это объясняет пафос такого незамысловатого, на первый взгляд, понятия. И то, почему именно этим пафосом столь безудержно пичкают бошки юных и не очень японцев – на нем, в конце концов, выстроено их общество и сама жизнь.
Во-вторых, это объясняет принципиальную тщетность попыток примерить инокультурное явление на собственную биографию – а то ведь очень когда-то досадно было. Теперь успокоилась. =)
В-третьих, это реабилитировало в моих глазах некоторое хорошие истории, к которым в какой-то момент возникал определенный скепсис. Взять хотя бы ту невозмутимую повторяемость, с которой сюжеты и мотивы про «накаму» штампуются из манги в мангу. К примеру, вот эта сцена мне в свое время показалась уникальной и удивительной находкой Минекуры: герои, которые фактически умирают ради своих товарищей, утверждают, что делают это ни разу, черт возьми, не для этих ублюдков, а ради себя, себя, и только себя. Со времен Сайюк сюжеты, сводящийся к той же сути, встречались мне мильон и четыре с половиной раза - и теперь понятно, что никто из использовавших их мангак и не подумал бы выражать этим какую-то свою оригинальную идею. Наверное, сетовать на повторяемость подобных мотивов – это почти то же, что, когда герой по сюжету взял да устал, говорить: «Господи, да нам уже тысячу раз показывали, как он устал, нельзя ли что-нибудь пооригинальней?»
А просто это одна из таких вечных, простите, истин, которая на определенной стадии раскрытия уже не может быть оригинальной, но никогда не перестанет быть актуальной.
Наверное, развивая эту убогонькую свою мысль, я многое безбожно упростила и огрубила, поэтому заранее готова допускать оговорки и признавать неточности отдельных утверждений. Но для меня важной показалась линия понимая (всегда условного, конечно), которая возникла по этой теме, чем и хотелось поделиться. ^^’
@музыка: manga - we could be the same
@настроение: норм
@темы: ссылки




 Называется "Все что я вижу". Но с французским не дружу, перевода не знаю.
Называется "Все что я вижу". Но с французским не дружу, перевода не знаю.
 )
)


 Ты задвигаешь шторы своей души, чтобы посторонние глаза не видели лишнего. И прибываешь в закрытом состоянии довольно длительное время. Так тебе хорошо. Так тебе уютно. Но иногда приходят люди, которые отдёргивают занавески. Ты не против. Потому что они впускают к тебе солнечный свет. Но это те, кого ты любишь, кому доверяешь. Если же открыть тебя, "зашторенного", попытается кто-то другой - ему не позавидуешь.
Ты задвигаешь шторы своей души, чтобы посторонние глаза не видели лишнего. И прибываешь в закрытом состоянии довольно длительное время. Так тебе хорошо. Так тебе уютно. Но иногда приходят люди, которые отдёргивают занавески. Ты не против. Потому что они впускают к тебе солнечный свет. Но это те, кого ты любишь, кому доверяешь. Если же открыть тебя, "зашторенного", попытается кто-то другой - ему не позавидуешь.



 Комментариев не требуется
Комментариев не требуется 
















 :
: